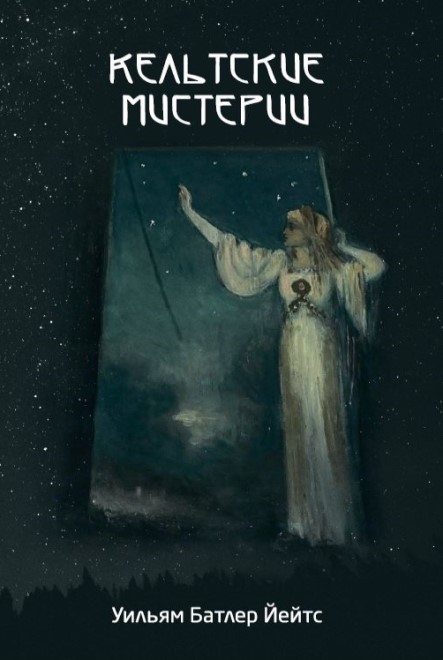Автор: Лорна Смитерс (c)
Перевод: Анна Блейз (с)

1. Историческая личность
Согласно этой точке зрения, Талиесин — придворный бард короля Уриена, правившего в VI веке королевством Регед, которое простиралось от Стратклайда (в окрестностях современного Глазго) до Озерного края (в северо-западной части Камбрии). Из всех стихотворений, входящих в «Книгу Талиесина», этот поэт в действительности мог написать лишь немногие. И эти немногие, подобно сочинениям других придворных бардов, в основном воспевают достоинства правителя, которому служил Талиесин. Но «Книга Талиесина» — это рукопись XIV столетия, а свое название она получила только в XVII веке, когда была найдена в одной из библиотек. Так что собранные в ней стихотворения дошли до нас не напрямую от VI века, а лишь в позднейших копиях. Валлийцам XVII века они были непонятны, из-за чего поначалу их сочли произведениями какого-то поэта, писавшего на древневаллийском языке. Но затем исследователи установили, что большая часть этих стихотворений появилась не в VI веке, а значительно позже и что все они в действительности написаны на средневаллийском.
Если бы все исчерпывалось этим, то в наши дни Талиесин был бы известен ничуть не более, чем Анейрин — еще один поэт, живший примерно в то же время на территории современной Южной Шотландии и сочинивший ряд элегий в память о воинах королевства Гододин, павших в битве с англами при Катраэте (современная деревня Каттерик в Йоркшире). Иными словами, все разговоры о нем ограничивались бы научными дискуссиями о датировке его стихотворений на основании лингвистических и исторических свидетельств и о том, какой вклад они внесли в развитие валлийской литературной традиции.
Но Талиесин, подобно Мирддину — третьему поэту, жившему в тех же краях, — подвергся мифологизации. И если мифологический образ Мерлина достаточно однозначен и ясен, то с Талиесином не все так просто. В легендах позднейших поколений он превратился в гораздо более сложного персонажа.
2. Легендарный бард
Вопрос о том, какие стихотворения из «Книги Талиесина» действительно были написаны бардом VI века, упомянутым в «Истории бриттов» Ненния, остается открытым. Известно, что некоторые из них сочинили средневековые поэты, принявшие имя своего легендарного предшественника. В нескольких таких стихотворениях речь идет о природе авена (поэтического вдохновения), и из контекста явствует, что между этими бардами постоянно велись споры о его источнике. Вот примеры:
Стихотворение «Armes Prydein» («Пророчества Британии») начинается со слов «Dygogan Awen…» («Авен предвещает…»).
Стихотворение «Mydwyd Merweryd» («Я — сила жизни…»), или «Kadeir Taliesin» («Песнь Талиесина»), содержит вопрос: «Куда течет авен / в полночь и в полдень?» Позднее в том же стихотворении поток вдохновения именуется «рекой Гвиона» (в более позднем прозаическом «Сказании о Талиесине» Гвион, проглотивший три капли волшебного напитка из котла Керридвен, перерождается как Талиесин).
В стихотворении «Golychaf i Gulwyd» («Я прошу Бога…») он утверждает, что пел перед Брохвайлом, королем Поуиса, который «любил мой авен» (или, возможно, «которого любил мой авен»).
Стихотворение «Kadeir Teyrnon» («Песнь Тернона») начинается заявлением о том, что оно «блистательно» и «исполнено безмерного авена». Позднее в том же стихотворении «авен» подразделяется на некие три части-«огирвен» (ogyrwen) и, по-видимому, отождествляется с Троицей посредством игры слов, основанной на двузначном слове peir («котел» и «властитель, бог»). Это пример «блистательного» владения стихом, заявленного в первой строке.
Во многих стихотворениях из «Книги Талиесина» содержатся пророчества, связанные с историческими событиями IX—X веков. В других встречаются отсылки к сюжетам из прозаических сказаний «Мабиногиона» и к легендарным подвигам (таким, как поход Артура в Аннон, валлийский потусторонний мир, за магическим котлом). На основании всего корпуса поэзии, приписывавшейся Талиесину, с уверенностью можно утверждать не только то, что его имя стало своего рода магнитом, притягивавшим к себе самый разнообразный материал, но и то, что сам он превратился в «эталон» вдохновенного поэта. Позднейшие поколения средневековых валлийских поэтов оглядывались в прошлое в поисках истоков своей традиции — и находили эти истоки на «Старом Севере», в области, охватывающей юг Шотландии и север Англии. Именно там жили поэты, первыми начавшие писать на валлийском языке, когда тот выделился из общебриттского через некоторое время после римской оккупации, и этих поэтов, стихи которых не сохранились до наших дней, считали основоположниками валлийской бардовской традиции (один из них, как свидетельствовал Ненний в конце IX века, носил прозвание «Тад Авен», то есть «Отец вдохновения»). В совокупности их называли «кинвейрд» (Cynfeirdd) — «первые поэты», и Талиесин стал их архетипическим представителем. Таким образом, уже к IX веку его осмыслили как пророка и мага, присутствовавшего (в воображении или в реальности) при различных исторических и легендарных событиях — от сотворения мира до похода Артура в Аннон. Во Второй ветви Мабиноги он упоминается в числе тех семерых, кто вернулся из Ирландии с головой Брана и с этой же головой побывал в Гуэльсе — краю вне времени, обособленном от обыденного мира. Талиесин — это поэт как «авенид» (awenydd), вдохновенный человек, способный погружаться в пророческий или визионерский транс (подобно тем, о ком позднее, в XII веке, поведал Гиральд Камбрийский[1]). Таким образом, Талиесина можно рассматривать как воплощение Духа поэзии.
3. Дух поэзии
В какой-то момент образ Талиесина вошел в фольклорную традицию — в сущности, это был лишь вопрос времени. Известный сюжет о Гвионе Бахе (мальчике, который помешивал варево в котле колдуньи Керидвен и обрел великую мудрость, когда ему на язык попали три капли этого зелья) основан на широко распространенном нарративном паттерне народной сказки. То же самое можно сказать и о дальнейших событиях, когда Керидвен пускается в погоню за Гвионом и оба они последовательно преображаются в различных животных, пока, наконец, мальчик не превращается в зерно: тут Керидвен проглатывает его, обернувшись курицей. Но затем, девять месяцев спустя, он вновь выходит из ее утробы как новорожденный — и вскоре мы узнаём, что этот новорожденный, собственно, и есть Талиесин. В каком-то смысле перед нами лишь очередной пример того, как имя Талиесина действовало подобно магниту: можно сказать, что оно естественным образом притянуло к себе известные фольклорные мотивы. Но в другом смысле история о Гвионе Бахе показывает, как этот метафорический оборотень превратился в олицетворение не только валлийской бардовской традиции, но и Духа поэзии вообще.
Патрик Форд в своем исследовании «Истории Талиесина» (повести XVI века, основанной на старинных фольклорных традициях) утверждает:
Очевидно, что сказания о Гвионе Бахе и Талиесине невозможно сбросить со счетов как «народные сказки» или поздние наработки. И в них самих, и в сопутствующих стихотворениях отчетливо сохраняется — несмотря на все вековые наслоения и сторонние влияния — миф о первородном поэте, несущем в себе всю мудрость мира[2].
Сюжет о Гвионе, который был проглочен колдуньей Керидвен и брошен в воду в кожаном мешке, дабы затем вернуться в мир в образе Талиесина, Патрик Форд рассматривает как миф о смерти и возрождении поэта. Поэт приносит себя в жертву собственной музе — подобно скандинавскому Одину, принесшему себя в жертву себе же, и подобно Духу поэзии из «Словаря Кормака»[3]. Таким образом, в сюжете о перерождении Гвиона Баха перед нами предстает идеальный образ «авенида», или вдохновленного поэта, и описываются условия, которым должен удовлетворять такой поэт.
В «Книге Талиесина» тоже обнаруживается немало фольклорных элементов. Например, источник поэзии в ней часто отождествляется с котлом, который обычно интерпретируют как котел Керидвен. Но в одном стихотворении встречается довольно сложная поэтическая конструкция, в которой котел обозначен словом peir, имеющим также значение «властитель» и нередко употребляющимся как метоним Бога. Соответственно, строки “pan doeth o peir / ogyrwen awen teir” можно перевести двояко: «когда вышли из котла / “огирвен” троякого вдохновения» или же «когда пришли от Властителя (Бога) / три лика вдохновения».
В самом современном академическом издании этих стихотворений[4] Маргед Хэйкок характеризует вышеприведенные строки как «тщательно рассчитанную двусмысленность», имея в виду, что поэт намеренно вложил в них оба смысла одновременно. «Книга Талиесина» очень трудна для интерпретации; в частности, стихотворение «Kadeir Teyrnon» («Песнь Тернона»), в котором содержатся эти строки, описывали как невероятно сложное и не поддающееся пониманию. Поэтому любое толкование неизбежно остается условным. Но из контекстов, в которых встречается слово «огирвен», явствует, что оно обозначает по меньшей мере одно из трех подразделений авена, а может быть, и все три вместе. Однако при этом очевидно, что в цитируемом стихотворении котел в качестве источника «огирвен» преднамеренно отождествляется с Богом (как Троицей). Можно рассматривать это как богословский экзерсис, а можно — как пример хитроумной магии поэтического слова (владением которой так часто похваляются все, писавшие от имени Талиесина).
Строки из «Песни Тернона» — лишь один из эпизодов дискуссии о природе авена, которую вели между собой первые валлийские барды. Патрик Форд[5] приводит в пример другой эпизод — спор между бардами Рисом Гохом и Лливелином ап Моэлом о том, откуда берется авен: от «Святого Духа» или из «Котла Керидвен», — и цитирует строку еще одного средневекового валлийского барда, Приддида-и-Моха, объединяющую эти два мнения: «Господь Бог посылает мне сладостный авен, как из котла Керидвен». Предполагают, что именно Приддид-и-Мох написал некоторые из стихотворений «Книги Талиесина», и если это так, то можно считать его очередным явлением Талиесина в обличье поэта XIII века. Иными словами, под именем и в образе Талиесина этот поэт выступал как авенид — тогда как в контексте обязанностей придворного барда использовал либо свое настоящее имя, Лливарх ап Ллевелин, либо свое бардовское прозвание, Приддид-и-Мох.
«Представляется вполне естественным, — комментирует Патрик Форд, — что имперсонатор Талиесина как представитель древней коренной традиции настаивал на магическом происхождении авена и на его функции проводника традиционного знания»[6]. Однако затем, вслед за Маргед Хэйкок[7], Форд отмечает, что средневековые валлийские барды работали в христианском контексте и что имперсонатору Талиесина тоже приходилось действовать в рамках этого мировоззрения, а не в роли «друида, отчаянно удерживающего последние рубежи язычества». Поэтому средневековый бард, принявший имя Талиесина, смотрит в обе стороны сразу: выражая господствующие в его время христианские представления о Боге как о Троице, он в то же время вписывает их в концепцию триединой природы авена и тем самым сохраняет за собой статус наследника старого мира.
Соответственно, других бардов Талиесин осуждает вовсе не за нечестие (как некогда делал Гильда[8]), а за утрату связи с истинными корнями поэзии, с подлинным авеном. При этом он тщательно заботится о том, чтобы никто не мог обвинить в нечестии его самого. Но, так или иначе, на протяжении Средних веков понятие авена продолжало развиваться и его божественная природа неизбежно стала толковаться в христианском ключе.
И только к концу XVIII века, когда Иоло Моргануг собрал воедино разрозненные остатки бардовской традиции и положил начало процессу их реинтерпретации, авен стал центральным символом и идеальным олицетворением друидического ренессанса — каковым и остается по сей день, как в религиозной практике неодруидизма, так и в традиции бардов, которую продолжают современные валлийские поэты.
[1] Глава 16 трактата Гиральда Камбрийского «Описание Уэльса» посвящена рассуждениям об «авенидах» (awenyddion) — «валлийских предсказателях, которые ведут себя подобно бесноватым»: «Таких, как они, не сыскать больше нигде. Если задать им какой-то вопрос, они тотчас впадают в беспамятство и теряют над собою всякую власть, точно бесноватые. На вопрос, им заданный, сколько-нибудь разумного ответа они не дают. Слова струятся у них изо рта бессвязно и, мнится, безо всякого смысла, хотя и выразительно; однако, прислушавшись со вниманием к тому, что они говорят, ты все же получишь ответ на свой вопрос. Когда все закончится, они выходят из своего забытья — так же, как просыпаются от глубокого сна обычные люди; но чтобы они пришли в чувство, их надобно хорошенько встряхнуть. Во всем этом есть две странности: [во-первых], припадок у них не прекращается сам по себе даже после того, как они всё выскажут, — надобно потрясти их изо всей силы и заставить опамятоваться; [во-вторых], придя в себя, они не помнят ничего из того, о чем сказали. Если случается так, что им задают тот же самый вопрос в другой раз или в третий, они всякий раз отвечают совершенно по-разному. Быть может, их устами говорят овладевающими ими бесы — духи невежественные, но по-своему вдохновенные. Этот дар прорицания они как будто получают от видений, которые являются им во сне. Одни говорят, что губы им как будто помазали сладким молоком или медом; другие — что кто-то словно прижал им к губам лист бумаги, на котором были написаны слова. Вот так они скажут о том, что с ними было, если спросить их сразу, как они оправятся от своего беспамятства и очнутся от прорицания. <…> Предсказатели такого рода редко встречаются среди других народов, кроме бриттов…». — Примеч. перев.
[2] Patrick Ford, Ystoria Taliesin. Cardiff, 1992.
[3] Имеется в виду сюжет, изложенный в ирландском «Словаре Кормака». Авторство этого словаря приписано Кормаку, королю и епископу Кашельскому, погибшему в битве в 908 году, но дошедшие до нас рукописи на основании лингвистических данных, датируются более поздним периодом. Некоторые статьи словаря дополнены краткими сказаниями, не имеющими прямой связи с определяемыми словами, и одно из таких сказаний повествует о Сенхане, который был верховным поэтом Ирландии в VII веке.
Сенхан собрался плыть на [остров] Мэн, и с ним отправилась большая свита: пятьдесят поэтов и множество учеников. Но только они отошли от берега и повернули в открытое море, как «с берега их окликнул какой-то парень (gilla), преуродливый с лица, и начал кричать, точно безумный: “Возьмите меня с собой!”» Никому он не понравился — что и не удивительно: из ушей у него текла на спину гнойная жижа, если надавить на лоб; на темени у него был «congrus craiche» (что это такое, неясно), «как будто мозг сочился сквозь череп. <…> Круглее яиц черного дрозда были два его глаза; чернее смерти — лицо его; проворней лисицы — взгляд его; желтее золота — острия зубов его и зеленее травы — их основания; обе голени его — нагие и тощие; обе пяты его — колючие и в черных пятнах» и так далее, в том же духе. «Если бы те пестрые лохмотья, в которых он был, с него сорвали да не придавили камнем, они бы так и пошли сами собою дальше» (столько в них было вшей). Но, несмотря на все, Сенхан разрешает уроду подняться на борт по кормовому веслу — ибо тот «закричал великим криком» и сказал Сенхану, что принесет ему больше пользы, чем все остальные поэты на корабле, вместе взятые. Спутники Сенхана при этом едва не пускают корабль ко дну, сгрудившись в носовой его части, подальше от урода, и выговаривают Сенхану за то, что он взял на борт чудовище, — чем и объясняется (добавляет повествователь) его прозвание Сенхан Торпейст: «Сенхан, к которому пришло чудовище (peist)».
Они отправляются в путь и высаживаются на острове Мэн, где навстречу им выходит нищая старуха, тоже владеющая искусством поэзии, — сообщается, что в прошлом она была известной поэтессой, но некоторое время назад покинула Ирландию и пропала: родные безуспешно разыскивали ее по всей Ирландии и Шотландии. Старуха вызывает Сенхана на поэтическое состязание, предлагая ему одну за другой две полустрофы, которые нужно закончить; ни Сенхану, ни прочим поэтам это не удается, но «чудовище» справляется с задачей. После этого Сенхан дает старухе достойную одежду и забирает ее с собой в Ирландию.
Когда же они, наконец, достигают родных берегов, происходит чудесное преображение: внезапно все видят, что на месте безобразного парня стоит «молодой герой с кудрями чистого золота, как завитки, что украшают малую арфу; и одежды на нем королевские, и весь его облик таков, что никто на свете не сравнился бы с ним благородством». Юноша обходит Сенхана и его людей посолонь и затем исчезает; «итак, — добавляет повествователь на латыни, — не остается сомнений, что это был дух поэзии (poematis spiritus)» (Transactions of the Philological Society [Great Britain], 1891—1894. London: Kegan Paul, Trench & Trubner, 1894, pp. 181—185). См. также статью Патрика Форда «Слепой, глухой и безобразный» о связи между немотой и уродством, с одной стороны, и красноречием и красотой — с другой (Patrick Ford, “The Blind, The Dumb and The Ugly”.
Cambridge Medieval Celtic Studies 19, pp. 27—40). — Примеч. перев.
[4] Marged Haycock, Legendary Poems from the Book of Taliesin. CMCS, 2007.
[5] Ibid.
[6] Предисловие Патрика Форда к его изданию «Мабиногиона» (Y Mabinogi and Other Medieval Welsh Tales, 1977), включающему также сказание о Гвионе Бахе и Талиесине.
[7] Форд ссылается на ее статью «Preiddeu Annwn and the Figure of Taliesin» в сборнике Studia Celtica 18/19, но впоследствии Хэйкок развила эти идеи более подробно в работе, указанной выше, а также в своей новой книге — Prophetic Poems from the Book of Taliesin (2013).
[8] Имеется в виду следующий выпад в адрес бардов из книги Гильды Премудрого (VI в.) «О погибели Британии»: «И [ты], напрягая слух, навострив уши, слышишь не сладкозвучные хвалы Богу гласом сладко поющих новобранцев Христовых, и распевы церковной мелодии, — но хвалы самому себе, которые суть ничто, наполненными ложью устами колодников, обрызгивающих при этом тех, кто стоит рядом, пенящейся жидкостью, и “зычных глашатаев”, визжащих вакхантским обычаем, и — так, как будто сосуд, некогда приготовленный для служения Богу, обращают в инструмент диавола и, то, что считалось достойным небесной почести, заслуженно бросают в пропасть ада» (I.34, пер. Н. Чехонадской). — Примеч. перев.
Lorna Smithers (c)
Перевод: Анна Блейз (с)
Настоящий перевод доступен по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-NoDerivs» («Атрибуция — Некоммерческое использование — Без производных произведений») 3.0 Непортированная.