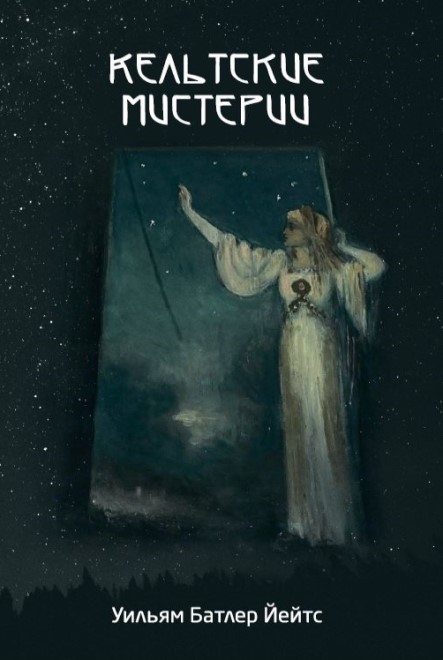Орфей и Ойсин
Автор: Фиона Маклауд (с)
Перевод: Анна Блейз (с)
…им надо было знать, видел ли я во сне белую косулю и нашептывала ли мне древесная листва в сокровенной долине, что пришла пора любить.
— Шатобриан, «Атала»[1]

Недавно один друг написал мне, что ему попалась на глаза необычная сказка на старом шотландском, под названием «Орфей и Гевродиса». Полагаю, он нашел ее в «Старинной шотландской поэзии» Ланга[2]. Вдобавок он спросил, не доводилось ли мне слышать какой-нибудь гэльский вариант предания об Орфее и Эвридике. Нет, ни разу — ни прежде, ни до сих пор. Правда, мне говорили, что сказку о некоей Гевродисе вроде бы где-то рассказывали, но я не знаю никого, кто слыхал бы ее своими ушами. И все же почти несомненно, что какой-то вариант истории об Орфее и Эвридике по-прежнему живет в народе. Окажись он чересчур гладким и слишком похожим на первоисточник, можно будет заподозрить современную перелицовку. Но о подделке может говорить и обратное. Одной английской леди, собиравшей фольклор (и составившей книгу из странной своей добычи — а странной потому, что эта дама действовала весьма оригинально: сама рассказывала сказку, а после спрашивала, не слыхал ли слушатель чего-то подобного), покойный хозяин переправы с Айоны как-то сказал, что знает историю, которая наверняка будет ей интересна, хоть это и не сказка о древнем царевиче, отправившемся в преисподнюю на поиски своей любви, а самая что ни на есть правдивая история о Кристине Росс: та забрала себе в голову, будто в нее влюбился сам князь тьмы, и в один прекрасный день, как и следовало ожидать, пропала пропадом. А следом и парень ее исчез — Рори Маккиллоп, волынщик с Малла. Месяц за месяцем не было о нем ни слуху, ни духу, но наконец он объявился вновь и сказал, что побывал в геенне, и отыскал там Кристину, и велел ей, чтобы шла за ним, на звук его волынки, и тогда все будет хорошо; но ежели только она остановится перекусить или глотнуть воды или окликнет его, чтобы он хоть разок оглянулся, то сей же миг он очутится далеко за горами, а она так и пропадет на веки вечные. А надобно сказать, что Маккиллоп этот играл на волынке отменно, и в тот раз, по собственным его словам, не сплоховал: никогда в жизни, мол, я не игрывал лучше. Да только Кирсти Росс его не послушалась: остановилась сорвать с ветки славное красное яблочко да и забылась, окликнула своего Рори, так что пришлось ему оглянуться. И тотчас раскрылась промеж ними неодолимая пропасть: он очутился снова в краю живых, а она так и осталась по ту сторону, с пригоршней праха в руке.
Я спросила перевозчика, чего ради он нагородил вздора с три короба, — мне-то было понятно, что он просто болтал, что взбредет на ум. Но он только плечами пожал: «А кому от этого хуже? Леди хотела сказку — она ее получила. А что до того, наврал я или нет, — так разве ж Рори Маккиллоп с Хескира не сбежал с Кирсти Росс, а год спустя не вернулся и не трепал языком, будто побывал в Америках? Да и жена его с тех пор уж померла, упокой Господи ее душу».
Однако я часто гадала про себя, не таится та древняя легенда греков в сердце старинного гэльского предания об Ойсине и Ниав, о сыне Финна и его возлюбленной из мира иного, — в этой повести, которую он сам поведал на склоне лет, во дни одолевшей его скорби и дряхлости? Верно, что-то такое в ней есть, и не столько даже отголосок, сколько один и тот же тон древнейшей мифопоэтической фантазии: как если бы волны принесли на побережье Крайней Туле то самое перо, что обронила птица на каменистых берегах Итаки.
Ведь Ойсин тоже отправился в мир иной, чтобы стяжать любовь и вернуть ушедшую юность; но как Орфею пришлось оставить Эвридику, юность и любовь, ибо он тщился забрать с собою урожай, уже снятый Аидонеем, так и Ойсину, гэльскому Орфею, пришлось покинуть страну поверженных грез, чтобы снова узреть все тяготы и горечь мира сего и вкусить старость и смерть — эти сумрачные плоды древа жизни. И как дальнейшая участь первого от нас сокрыта (ибо одни говорят, что его умертвили ревнивые боги, которым не по нраву, когда кто-то разглашает, пусть и шепотом, разгадку их таинств; другие — что он был убит разъяренными вакханками; третьи же — что он скитался в одиночестве, покуда горе не укрыло его, как снег, и тогда он лег под ним и уснул, и больше уж никто не видал его), так же неведома и доля, выпавшая второму. Ведь Ойсин не остается навеки в той счастливой стране, куда ушла его юность и он сам — вслед за нею: он возвращается и видит, что мир постарел, а все, кого он когда-то любил, сошли под землю; и в ушах у него звенят насмешки монахов Патрика, а над долинами и лугами гудят колокола Христа. И никто не знает, где и как забрала его смерть, хоть северные гэлы и верят, что последний свой взгляд за седые моря он бросил из залива Друмадун на острове Арран, этом шотландском Авалоне, что лежит меж водами Аргайла и зеленой волной Атлантики.
Может статься, и древнегреческая сказка об Орфее, ищущем Эвридику в царстве завершившихся судеб и снятых урожаев; и древняя гэльская сказка об Ойсине и Ниав; и средневековая сказка о Понсе де Леоне[3]; и народная сказка (которую мне рассказывали снова и снова, то в одной форме, то в другой; в прошлом году я часто слышала ее на зеленых берегах Лисмора) о пастухе с островов, который полюбил бездушную улыбчивую деву из мира иного, и сошел за своей феей во тьму земли, под корни сухого терна, и так и пропал на много месяцев, покуда однажды, в Майский день, не увидали, как он идет среди желтого ракитника, в короне из боярышника и с рябиновой веткой в руке, улыбчивый и бессловесный, и глаза его холодны, как синяя вода; так вот, может статься, все эти легенды и сказки — не что иное, как зыбкие попытки смертных высказать то, что незыблемо: переменчивые голоса одного неизменного желания души, желания вернуть и удержать унесенное ветром или сорвать с чела того ветра тайный венок из неведомых цветов, все еще влажных от росы бессмертия. Может статься, каждая из этих сказок — просто крик нашей жажды юности, или вожделения к жизни, которое пробуждает фантазию во всякий миг страстного чувства, ибо оно есть движитель всех наших чувств и всех страстей.
Орфей был влюблен, а Эвридику отняли у него до срока, в расцвете красоты; но не все ли мы влюблены, как Орфей, — в то, что отнято у нас навеки? Не все ли мы ищем это в пустынях и затворах своей души, — ищем, и не находим, и вотще зовем свою Эвридику? И не все ли мы такие же глупцы, как Орфей, который надеялся отвоевать Эвридику мукой любви и экстазом воли? И не все ли мы, как он, терпим неудачу, забывая порядки мира иного ради тех, что приняты в мире людей?
Мало ли нас, таких, кто отдал сердце прекрасной Ниав, чтобы затем очнуться от чар и увидать, что всё состарилось, что яблоки Авалона иссохли, и мякоть их обратилась в прах? Мало ли нас, таких, кто уходит за феей, похитившей нашу радость, чтобы затем, на краткий миг, явиться миру в короне иллюзий и с обессилевшим скипетром фантазии в безвольных руках? Мало ли нас, таких, кто проводит жизнь в непрестанных поисках — столь же напрасных, как те, которым предавался Понс де Леон, ради своей мечты отвернувшийся от других, досягаемых источников юности и оставивший всё, что имел, ради надежды отыскать на краю света нечто такое, что скрывалось в его собственной душе?
Странница ли она, пришедшая из древних мифов, — эта сказка об Ойсине, гэльском Орфее? Или она сирота без роду без племени, явившаяся на свет среди гэльских холмов — от «лунного семени», как называют канну, чей прелестный белоснежный пух плывет по ветру над вересковыми пустошами? Это не так уж и важно. По меньшей мере, в ней есть своя, незаёмная красота. Но Ойсин тоже был сыном того, кто влюбился в бессмертную: как фракийский царь Эагр любил Каллиопу, одну из богинь[4], так и Финн, этот гэльский Агамемнон, любил одну из Сокрытых — дочь народа холмов или, как мы сказали бы сейчас, одну из ши, или сидов[5]. Оба, Орфей и Ойсин, стали величайшими поэтами — каждый среди своего народа. Обоих учили и вдохновляли божественные гении: фракийца — Аполлон, а гэла — Энгус Солнцекудрый, этот Бальдр запада.
Обитатели подземного мира и все великие цари и властители, сошедшие в Аид, поддались волшебству Орфеевой лиры; когда же Ойсин пришел в мир иной вместе с Ниав, все спящие короли, очарованные герои и тайные племена Мидира взволновались от этого чуда и рассмеялись гордым смехом. Первый плавал с аргонавтами, прошел вместе с ними через пенные буруны Симплегад и видел войну как торжественный обряд или празднество; второй ходил с людьми Финна через бурные воды Мойла, а при Мойтуре узрел могучие волны мечей и копий, блиставшие над морем крови, и увидал, как сошлись и истребились народы; и как солнце, склонившись к западу, заволокло равнину широкими покровами багреца, словно уронив завесу над этим нехоженым морем и надо всеми закатными берегами, уставшими от битв.
Оба любили великой любовью, не ведающей забвения, и оба под конец познали усталость и смерть: первый, как говорят, умер в долинах Фракии, взывая к своей любви, затерянной под землей; второй — в Друмадуне на острове Арран, на берегу Аргайла, дряхлым слепцом, рука в руке с Мальвиной[6], но со вздохом на устах о той своей давней, утраченной, запретной любви… «О Ниав, сладостны были твои поцелуи, как это голубое, блаженное вино волны на морском ветру…»
Одни предания говорят, что мать Ойсина была смертной, которую заколдовала женщина из ши; другие — что она сама была ланнан-ши, волшебной возлюбленной Финна… и, как я слыхала, ее тоже звали Ниав, или Моан, или Либан, или одним из множества других имен, столь же сладостных и смертоносных.
Но самая известная легенда[7] такова, что Финн устал от своей белоснежной возлюбленной и женился на дочери великого вождя уладов. И «та, другая» наложила на нее заклятье-фатфит[8] и превратила ее в лесную лань.
И когда настал срок, вошла та лань в глубокие воды озера Лох-на-Кил, что близ Арисага, в Западном Аргайле, и приплыла на островок, что зовется Сандрей.
Там и родилось ее дитя, дитя от Финна. Когда миновали муки родов, она забылась, и ланья часть взяла над нею верх и стала вылизывать лоб своему детенышу. Но скоро она опамятовалась; и, поднявши голову, увидела, что чары, по-прежнему лежавшие на ней, над ее новорожденным сыном не властны. Но там, где она коснулась языком его лба, рос пучок шерсти, как у оленя; вот потому-то младшего и самого прекрасного из сыновей Финна назвали Ойсином — Олененком.
Ребенка забрали в отцовский дун, а лань метнулась прочь, в густую чащу, и поплыла через озеро на дальний берег, и скрылась в холмах: так уж она испугалась, что бросятся на нее гончие Финна — Бран, Луат и Бреклит.
Долгие годы прошли, прежде чем Ойсин свиделся с матерью снова. Однажды, уже на пороге юности, пошел он с друзьями в холмы, охотиться на оленя, но по дороге отстал от спутников и заблудился в тумане. Когда же туман рассеялся, юноша увидел, что стоит один в незнакомом месте, на зеленой поляне среди отлогих синих холмов. На вершине одного из них были сложены высокою грудою камни, и оттуда стекал ручей, а на берегу ручья паслась прекрасная лань. Сроду Ойсин не видывал лани изящнее и красивее: до того она была хороша, что он засмотрелся на нее, как засмотрелась бы пригожая девица на саму себя, впервые увидав свой образ в зеркале вод. И все же пробудился в нем охотничий дух, и юноша поднял копье. Но лань взглянула на него печальными глазами, полными тоски и темными, как горные озера. И дрогнула его рука и опустилась.
— Не бей меня своим копьем, Ойсин, — сказала лань. — Ведь я — твоя мать: это я родила тебя на острове Сандрей, в Лох-на-киле. Вижу, ты остался один; ты голоден и устал. Пойдем ко мне домой, олень моего сердца!
И пошли они по зеленой траве, не торопясь, бок о бок, и пришли к большому покатому камню, с девятерых мужей высотою и гладкому, словно клинок. И жена Финна дунула на камень, и открылась в нем пещера, а только они вошли, как затворилась за ними пещера, и остался лишь большой покатый камень, с девятерых мужей высотою и гладкий, словно клинок.
И тут, к премногой радости своей, увидел Ойсин, что мать его свободна от чар и уже не лань она, а женщина, и что она молода и хороша собою. Долго они целовали друг друга от великой любви, а после мать дала сыну поесть, и напоила его сладким вересковым элем, и стала петь ему под музыку, слаще которой он не слыхивал.
И так продолжалось три дня. Мирно почивали они ночью в том краю, где не бывает ночи, и пробуждались с радостью поутру в том краю, куда не приходит утро, — ибо само Время там не живет, а дремлет, как в извилистых пещерах раковины дремлет шум беспокойного моря.
А на четвертый день вспомнил Ойсин об отце своем, Финне, и о тех, с кем пошел на охоту. И сказал: пойду, разыщу их, чтобы они не горевали обо мне. Но прежде, чем покинуть зачарованный край, сложил он песню для своей матери — первую из песен Ойсина, песню-шьян[9], чтобы та берегла его мать от Финна с его охотниками, от гончих и от копий Финна. И гладкий камень открылся вновь, и Ойсин вышел, и очутился на той же поляне среди синих холмов, и увидел, как летит пустельга в поднебесье и будто смеется из своего высока надо всем, что раскинулось вширь, — и над зеленью земли, и над сединою складчатого моря. Когда же Ойсин вернулся в отцовский дун, встретили его с великой радостью и изумлением, ибо не три часа, как чудилось ему, и не три дня, как он знал, но три года провел он в потайном краю среди холмов, вкушая колдовскую пищу, питье и музыку.
На деле эта сказка, как и сказка о другом Орфее, — все та же древняя и хорошо знакомая мелодия, все тот же припев или рефрен неисчислимых песен духа, звучащих среди всех племен и народов, во все времена; в преданьях любой страны, в любую эпоху, порою слышится все тот же вздох, как в старинной шотландской балладе: «Я устал на охоте и крепко усну»[10].
Все эти старые сказки, таящие в себе миф (назовите их греческими, арийскими или какими угодно, не имеет значения), — они как трава, что пробьется повсюду, где найдет себе клочок земли; а трава из Темпейской долины или со склонов Геликона такова же, как та, что растет в зеленом Агадоу или на уступах Геклы по ту сторону Гебридских вод. Не далее как третьего дня я рассказала одному жадному слушателю сказку о некоем Фаруане (Fear-uaine), «зеленом человеке», жившем «давным-давно, в старину», в ветвях огромного дуба. Жил он там век за веком, найдя себя приют, как говорится, в сотах столетий; и не делал ничего, а только глядел, как облака плывут над ветвями и тени скользят меж стволов; пищей же ему была роса и солнечный свет. Но вот однажды, идучи среди деревьев и невесомо ступая по мягкому мху, он увидал, что новый мир вошел в его старый беспечальный лес, и имя этому миру — женщина. Юной она была, как неувядающая Ниам, и красивой, как прекрасная Эмер, и пленительной, как Либан-чаровница; и Фаруане понял, что устал от своего покойного бессмертного сна, и возжелал скорби и смерти, хоть и безотчетно — ибо не ведал ничего об этих спутницах души, ни даже о самом своем желании; да и откуда ему было знать, что душа — не одно из бренных созданий земли, как он сам, а нечто иное? И вот он мягким шагом вышел из прогретого солнцем сумрака ветвей и приблизился к деве (а звали ее Моан), что стояла в зарослях папоротника и смотрела на него широко раскрытыми глазами, словно лань. И показался он ей слишком прекрасным, чтобы испугаться, и слишком прекрасным, чтобы не полюбить; и хоть Моан и знала, что предаться в любви лесному духу — значит прожить три года во сне, а после умереть телом и отлететь душою в неведомое, все же она отвернулась от всего, чего желала прежде, и покорилась Фаруане. А тот поцеловал ее в губы, и взял ее за руку, и повел на зеленые поляны; и все позабыли о ней, кроме жителей тихого леса, — лишь смутная память осталась в песне, что длится в сумерках тысячелетий, как вздох о страсти, ушедшей давным-давно.
Три года прошло для Фаруане и Моан: трижды познали они восторги весны и летнюю радость, осенний покой и дремоту зимы, что отпущены детям земли. И ни о чем не помнила Моан, ибо душа ее полнилась красотой; и не желала она ничего, ибо грезы усыпили ее ум и насытили сладким довольством.
Когда же она умерла (а была ее смерть — как дитя засыпает в тени, на мхах и шуршащих листьях), Фаруане тоже угас (и была его смерть — как солнечный луч, соскользнувший с зеленой ветки), когда увидел, как душа ее склонилась над ним, и, поцеловав на прощанье, ушла в свою обитель, куда ему путь был заказан. Но дочери, что у них родились, прожили сполна свой зеленый час, что длится, бестревожный и нестареющий, век за веком наших горячечных смертных дней. И у тех, в свой черед, родились дети от других сыновей зеленого царства, — обличьем схожие с Моан, но все же потомки Фаруане: они подобны сынам и дочерям людского племени, но боятся их не любят, и не могут жить ни с ними, ни вблизи от них, и не вступают с ними в браки. Любят же они тень листвы, а под солнцем созревают, как плод; и никто не помнит о них; и так они живут, не видя снов, кроме сна собственной жизни.
И что же такое это порожденье грезящей души Запада, как не сестра иной, но столь же сладостной фантазии, порожденной грезящей душою Эллады в оны дни? И что с того, что тот островной поэт или аркадский певец со своею серебряной флейтой, плетущий в жаркий полдень у источника, под сенью платанов, чудо красоты, — как дитя сплетает венок из дикого чабреца и маргариток, — называл Моан Меропой и пел о ее лесном возлюбленном как о Дриасе? То лишь и важно, что оба они знали скрытного зеленого бога, живущего в дубовой листве, и оба видали дочерей от смертной его возлюбленной — оленеоких пугливых дриад, что обитают в зачарованных деревьях.
Вот в каком смысле плоды воображения не умирают, но преображаются с переменами времен: с первыми звуками апрельской флейты золотистая смирния и гиацинт приходят в чащу такими же юными, как придут под грядущими росами и как приходили годом раньше и тысячи лет назад, будь то в долинах Аркадии или в горных лощинах гэльского края.
[1] Пер. с фр. М. Хейфеца.
[2] Имеется в виду антология Дэвида Ланга «Избранные фрагменты старинной народной шотландской поэзии» (1822), в которую действительно входит поэма под названием «Орфео и Гевродиса», воспроизведенная по рукописи Окинлека (NLS Adv. MS 19.2.1, Национальная библиотека Шотландии, XIV век).
[3] Имеется в виду испанский конкистадор Хуан Понс де Леон (1474—1521), в 1513-м возглавивший первую европейскую экспедицию в Испанскую Флориду. Согласно народным преданиям, этот поход он предпринял в поисках Источника Юности. Легенда гласит, что индейцы-араваки сообщили де Леону, что источник, воды которого возвращают молодость старикам, находится в некоем месте под названием Бимини. Эту таинственную местность связывали с Багамскими островами, однако де Леон исследовал континентальные области. О легендарном Источнике Юности в связи с экспедицией де Леона упоминали многие историки. В частности, в 80-томном сочинении историка Антонио де Эрреры-и-Тордесильяса «Всеобщая история деяний кастильцев на Островах и Материке Моря Океана, называемых Западными Индиями» (1596—1615) утверждается, что этим источником пользовались вожди местных племен и что дряхлый старец, омывшийся в его водах, возвращал себе силы и здоровье и снова мог «заниматься всем, что делают мужчины <…> взять новую жену и родить еще детей». Испанцы, по словам Эрреры, тщетно обыскали каждую «реку, ручей, залив и озерцо» вдоль побережья Флориды, но так и не нашли искомого источника.
[4] Согласно самой распространенной версии, Орфей был сыном фракийского речного бога Эагра и музы Каллиопы.
[5] Согласно одной известной версии, Ойсин — сын Финна от Садб, дочери Бодба Дерга, который, в свою очередь, иногда считался сыном Дагды и его преемником, королем Племен богини Дану. Согласно мифу, Финн встретил Садб на охоте, в образе лани, в которую та была превращена за отказ выйти замуж за Фер Доириха, темного друида из сидов. Вернув себе облик прекрасной девы, Садб стала женой Финна. Но вскоре Фер Доирих разыскал ее и, ударив ореховым жезлом, снова превратил в лань. После этого Садб бесследно исчезла: Финн разыскивал ее семь лет, но так и не отыскал. Однако по прошествии этих семи лет в лесу нашли дикого мальчика. Когда его привели к Финну, тот увидел, что мальчик похож на Садб, и понял, что это его сын. Финн признал ребенка и дал ему имя «Ойсин», что значит «олененок». Другие версии легенды о матери Ойсина приведены ниже в тексте.
[6] Мальвина — вымышленный Дж. Макферсоном персонаж цикла легенд об Оссиане (прототипом которого послужил Ойсин). Возлюбленная Осгара, сына Оссиана, заботившаяся об Оссиане в старости.
[7] Та, которую особенно хорошо изложил в обобщенном виде г-н Аласдер Кармайкл; а чтобы представить себе, насколько трудно иногда бывает обобщить подобный материал, можно добавить, что покойный г-н Кэмпбелл из Тири собрал и послал г-ну Кармайклу ни много ни мало четырнадцать вариантов «Первой песни Ойсина», обращенной к его матери-лани. — Примеч. автора.
[8] Согласно словарному определению, fath-fith — туман или плащ невидимости (или способность вызывать такой туман). Согласно комментарию, который дает А. Кармайкл к своему изложению этой легенды, fath-fith и fith-fath — «взаимозаменяемые термины: говорят и так, и так, не видя между ними разницы. Обозначается ими тайная сила, которая делает человека незримым для смертных глаз и преображает один предмет в другой. Мужчин и женщин с ее помощью делали невидимыми; мужчин превращали в коней, быков или оленей, женщин же — в кошек, зайцев и ланей. Иногда эти преображения совершались добровольно, иногда — против воли. В особенности fith-fath был полезен охотникам, воинам и путешественникам: с его помощью они становились невидимыми или скрывались под чужой личиной от врагов и диких зверей» («Carmina Gadelica», II.133).
[9] Sian, защитное заклинание.
[10] Рефрен шотландской баллады «Лорд Рэндал». Герой баллады беседует со своей матерью и просит постелить ему постель, жалуясь на усталость; постепенно выясняется, что он отравлен своей возлюбленной и жить ему осталось недолго.
Fiona McLeod (c)
Перевод: Анна Блейз (с)
Настоящий перевод доступен по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-NoDerivs» («Атрибуция — Некоммерческое использование — Без производных произведений») 3.0 Непортированная.